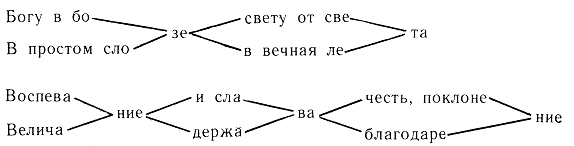Глава 7. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА
4. Книжное стихотворство
Новая русская литература пользуется двумя формами художественной речи
— прозой и стихом. Те же формы характерны и для фольклора, где издавна
развивались и прозаические, и стихотворные жанры. В устной народной
поэзии текст, как правило, неразрывно связан с напевом. Исполнитель
не декламирует, а поет. Но в русском фольклоре существовал и «говорной»
стих, например раёшный, с обязательной рифмой в конце строк. Таким стихом
сложены прибаутки в народном театре картинок — райке. Раёшником пользовались
балаганные деды, уличные зазывалы, торговцы и разносчики. Он широко
применялся в скоморошьем репертуаре.
Организация художественной речи русского средневековья была иной.
В древнерусской письменности стих, т. е. текст, членимый на соизмеримые
отрезки, встречается только как исключение [1]. Немногочисленные стихотворные памятники, известные
Древней Руси, сложились или по византийским образцам, или под воздействием
устного народного творчества. Влияние византийской метрики очевидно
в ранних славянских стихотворениях, использующих принцип силлабической
симметрии (соизмеримости стихотворных строк по слоговой длине), которые
сочинялись Кириллом Философом и первыми поколениями его учеников в Великой
Моравии и в Болгарии IX-X вв. [2] Таковы
стихотворное предисловие («проглас») к переводу Евангелия, «азбучная
молитва», состоящая из двенадцатисложных строк с азбучным акростихом
(каждая строка начинается с очередной буквы славянской азбуки), службы
Кириллу и Мефодию. Деятельность первых славянских писателей была пронизана
мыслью о том, что язык славян как язык богослужения и культуры равноправен
с греческим и латынью. Поэтому с первых шагов славянская литература
стремится овладеть всеми достижениями литературы византийской, в том
числе и стихотворными жанрами.
Ранние славянские стихотворения вошли в письменность Киевской Руси.
Переписчики сохраняли, а читатели осознавали их силлабическую природу.
Однако в XII в. русский язык претерпел коренные изменения. Так, редуцированные
гласные ъ и ь в слабом положении перестали выполнять слоговую
функцию. В результате равносложие строк было нарушено. В новых переводах
с греческого метрика оригинала не выдерживалась. Тринадцатисложные строки
сборника изречений «Мудрость Менандра» в славянской версии, появившейся
в XIII в., превратились в строки разной длины — от 11 до 16 слогов.
Такой «перевод в прозу» был следствием не технической неумелости, а
эстетической установки: считалось, что нужно переводить «внутренний
разум» текста, его смысл, не заботясь о точном соблюдении формы.
Сказовый стих русского эпоса использовал автор «Слова о погибели Русской
земли»:
О светло светлая и украсно украшена Земля Руськая!
И многими красотами удивлена еси:
Озеры многыми удивлена еси,
Реками и кладязьми месточестьными,
Горами крутыми, холми высокими,
Дубравоми частыми, польми дивными...
Этот замечательный текст доказывает, что наши предки не страдали отсутствием
поэтического чувства. Это чувство удовлетворялось как за счет фольклора,
который в средние века был общенациональным достоянием, так и за счет
литературы. Почти не зная стиха в современном значении этого слова,
древнерусская литература исключительно широко пользовалась приемом ритмизации
[3].
В «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона, в торжественном
красноречии Кирилла Туровского ритмизация вполне сознательна и часто
настолько последовательна, что тексты этих авторов могут рассматриваться
как пограничные между прозой и стихом. «Плетение словес» XIV-XV вв.,
в котором однокоренные и сходно звучащие слова повторяются наподобие
элементов орнамента, создавая ритмический импульс, — это также «не-проза».
Писатели XVI-XVII вв., в частности Максим Грек, говоря о стихах, употребляли
выражения «слагати стихи» и «сплетати (или ткати) стихи» как синонимы.
Значит, в их понимании «плетение словес» было особой формой художественной
речи, противостоящей «обычной» прозе [4].
Ритмическое движение особенно сильно в гимнографии, в которой текст
и мелодия образуют некое двуединство. Гимнография — это лирика, потому
что предмет гимнографии — эмоциональная жизнь человека, но эта лирика
ограничена рамками богослужения. Однако к началу XVI в. на основе гимнографической
традиции появляется и внебогослужебная лирика — так называемые «стихи
покаянные, слезны и умиленны, чтоб душа пришла к покаянию»
[5]. Они уже отделяются от церковных обрядов, хотя по тематике еще
тесно с ними связаны (особенно с великопостным циклом). В «стихах покаянных»
преобладают мотивы греха и покаяния, смерти и страшного суда, ухода
от мира в «прекрасную пустыню»:
Приими мя, пустини,
Яко мати чадо свое,
Во тихое и безмолвное
Недро свое... [6]
«Стихи покаянные» очень быстро оформляются в самостоятельный жанр.
В певческих рукописях XVI в. встречаются обширные подборки, насчитывающие
по нескольку десятков текстов этого жанра. Затем цикл «стихов покаянных»
разрастается за счет новых произведений, в которых звучат и светские
ноты. Так, во время польско-шведской интервенции в них отражается тема
защиты Родины:
Приидите, вси рустии собери.
И благообразнии вернии народи.
И страшнии воини...
Станем, братие,
Противо полков поганых,
Не убоимся часа смертнаго... [7]
«Стихи покаянные» — это, разумеется, не проза, но это и не поэзия
в нашем понимании. Они не декламируются, а распеваются «на восемь гласов»,
как гимнография, причем мелодия играет очень большую роль. Даже конечные
ъ, не отражавшиеся в произношении, часто помечались знаком певческой
нотации — и, следовательно, распевались.
Стихотворство как осознанная, противостоящая и прозе вообще, и ритмической
прозе, и гимнографии форма художественной речи возникло в первом десятилетии
XVII в., в Смутное время. В рукописную книгу тогда проникают и фольклорные
размеры (раёшный стих, тоника), и заимствованная украино-польская силлабика
[8]. С этого момента и начинается история русской поэзии западноевропейского
типа.
«Послание дворянина к дворянину». Раёшником
написана стихотворная часть «Послания дворянина к дворянину» (1608-1609).
Автор послания, помещик Иван Фуников, оказался в захваченной Иваном
Болотниковым Туле, когда ее осадили войска Василия Шуйского. У осажденных
кончились припасы. В Туле начался голод. Бунтовщики держали Ивана Фуникова
в тюрьме, подозревая, что он прячет зерно. В послании Фуников и описывает
свои злоключения:
Седел 19 недель,
А вон ис тюрмы глядел.
А мужики, что ляхи,
Дважды приводили к плахе.
За старые шашни.
Хотели скинуть з башни.
А на пытках пытают,
А правды не знают.
Правду-де скажи,
А ничего не солжи.
А яз ин божился,
И с ног свалился,
И на бок ложился:
Не много у меня ржи,
Нет во мне лжи... [9]
Комическая тональность этих строк позволила некоторым исследователям
заподозрить, что Иван Фуников не был автором «Послания дворянина к дворянину»,
что оно только приписано ему: не мог же человек, рассказывая о своих
страданиях, смеяться над ними! Но дело в том, что раёшный стих, которым
пишет Фуников, рассчитан именно на комический эффект. Комизм — смысловой
ореол раёшника. Это скоморошье балагурство, подчеркнутое рифмой. Рифма
«оглупляет явления, делая схожим несхожее... снимает серьезность рассказываемого,
делает смешным даже голод» [10], даже страдание, даже пытку, а шутка — это своего рода
психологическая защита от травмирующих психику явлений действительности.
Используя раёшный стих, автор вынужден считаться с его смысловой инерцией.
Поэтому Иван Фуников вольно или невольно становится в позу балагура,
ерника. Кстати говоря, в «Послании дворянина к дворянину» есть и прозаические
куски. В них мы не найдем и тени комизма: здесь смысловая инерция раёшника
уже не действовала.
Евстратий. Если Фуников опирается на словесное
искусство скоморохов, на раёшную традицию балагурства, то современник
Фуникова, поэт Евстратий, приверженец Василия Шуйского, в стихотворной
молитве 1621 г. ориентируется на поэтическую культуру Западной Европы.
Эту молитву, написанную силлабическим стихом с перекрестной рифмой,
автор предварил латинской пометой «serpenticum versus», т. е. «серпантинный
(или змеиный) стих». И действительно, графически стихотворение Евстратия
исполнено как «серпантинный» рисунок. Сделано это так: из соседних стихов
исключены общие элементы (флексии). Эти элементы вписаны между строк.
В результате строки становятся зигзагообразными, «серпантинными», «змеиными»,
— иначе их просто нельзя прочесть. Например, два идущих подряд четверостишия
«Богу в бозе, /свету от света,/ в простом слозе /в вечная лета,/ воспевание
и слава, /честь, поклонение,/ величание, держава,/ благодарение» (слоговая
схема 4—5—4—5; 8—6—8—6) в рукописи Евстратия выглядят следующим образом:
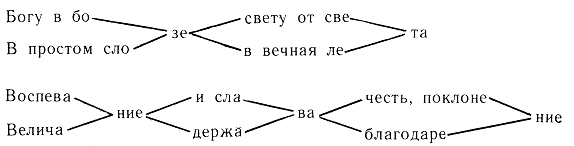
В европейской поэзии XVI-XVII вв. были широко распространены всякого
рода «курьезные» стихи, например палиндромоны (перевертни), читавшиеся
одинаково слева направо и справа налево. Сложился также особый жанр
изобразительной эпиграммы, который предусматривал оформление текста
в виде рисунка — креста, звезды, бокала, лучей солнца или языков пламени,
сердца и. т. д. Стихотворение Евстратия — это типичный образец такой
«алхимии слова».
Стихотворения Ивана Фуникова и Евстратия обозначили полюсы того широчайшего
диапазона, в котором предстояло развиваться русской поэзии XVII в. От
скоморошьего осмеяния мира до медитативной лирики, от балагурства до
«богословия в стихах», от раёшника до строгой силлабики — такими были
ее тематические и метрические возможности, намеченные уже в Смутное
время. Реализацией этих возможностей и занимались русские поэты XVII
в.
Постоянно действующим фактором стала ориентация на опыт поэзии Украины,
Белоруссии, Польши. Известно, что Лжедмитрий завел при московском дворе
музыку и пение, учредил придворные должности на польский манер. По-видимому,
он не забыл и о должности придворного стихотворца. Скорее всего на роль
придворного поэта Лжедмитрий предназначал своего любимца князя И. А.
Хворостинина (среди польских поэтов той эпохи было очень много дворян,
ибо искусство сочинять вирши входило в программу образцового воспитания
шляхтича).
Стихи И. А. Хворостинина. Уже при патриархе
Филарете, в конце 1622 или начале 1623 г., Хворостинин подвергся гонениям
за «шатость в вере» (он запрещал своей дворне ходить в церковь, утверждая,
что «молиться не для чего и воскресения мертвых не будет»). У Хворостинина
были изъяты рукописи, содержавшие «про всяких людей Московского государства
разные укоризны», и между ними тетради со стихами. Из них до нас дошло
только одно двустишие, приведенное в царском и патриаршем указе: «Московские
люди сеют землю рожью, а живут все ложью» Хворостинина сослали в Кирилло-Белозерский
монастырь, где поместили в «особой келье» под неусыпным присмотром «крепкого
житьем старца». Чтобы доказать свою верность православию, Хворостинину
пришлось написать «Изложение на еретики-злохульники» — огромный стихотворный
трактат в 1300 строк, в котором обличаются католичество и различные
ереси [11]. «Изложение» Хворостинина не оригинально. Это перевод (или,
точнее, переложение) одного украинского полемического произведения,
также стихотворного. Несмотря на подражательность, трактат Хворостинина
дает очень интересный материал для оценки первых шагов русской книжной
поэзии.
С конца XVI в. в украинских и белорусских книгах применялись две системы
версификации — равносложный стих (изосиллабизм) и неравносложный стих
(«относительный силлабизм»), в обоих случаях с обязательной парной рифмой
[12]. Если Евстратий склонялся к изосиллабизму, то Хворостинин отдал
предпочтение «относительному силлабизму». Именно по пути, намеченному
Хворостининым, и пошла русская поэзия первой половины XVII в. Первые
поколения московских стихотворцев пишут неравносложные стихи, называя
их «двоестрочным согласием» и подчеркивая таким образом принцип парной
рифмы.
«Двоестрочное согласие» в некоторых принципиальных моментах совпадало
с раёшным стихом. И там, и тут каждая строка представляла собой интонационно
и синтаксически завершенный оборот. И в раёшнике, и в «относительном
силлабизме» наряду с преобладающей женской рифмой обильно использовалась
рифма мужская и дактилическая. У Хворостинина находим такие концевые
созвучия: Рим — дым, сотворил — одарил, ловец — овец, бог — мног
(мужская рифма), отвращаемся — утверждаемся, писание — пропитание,
учители — мучители (дактилическая рифма). Хворостинин, при всем
своем западничестве, испытывал явное влияние скоморошьего искусства.
Двустишие «Московские люди сеют землю рожью, а живут все ложью» — это
перифраз старинной пословицы «Красно поле с рожью, а речь с ложью»,
известной по сборникам XVII-XVIII вв. Стоит отметить, что та же рифма
использована в «Послании» Ивана Фуникова, затем в «Послании дворительном
недругу» и в других памятниках раёшного стиха.
Итак, на первых порах фольклорная традиция и украино-польское влияние
действовали совместно. Однако очень скоро эти струи обособились, потому
что в книжной поэзии стал действовать иерархический принцип. «Двоестрочные
согласия» были отождествлены с «высоким», серьезным стихотворством,
а раёшник с присущим ему смеховым колоритом — со стихотворством «низовым»,
простонародным, «подлым». Иерархическое обособление повело за собой
изменения в технике «двоестрочных согласий». Это ярко проявилось в стихотворной
продукции «приказной школы».
Стихотворство «приказной школы». Еще недавно
считалось, что стихотворство первой половины XVII в. — это случайная
подборка разрозненных, незрелых и немногочисленных опытов. Однако анализ
рукописного материала показал, что к концу 20-х — началу 30-х гг. в
России сложилась поэтическая школа, которая активно функционировала
в течение двух десятилетий, вплоть до реформ патриарха Никона
[13]. К ней принадлежало до десятка стихотворцев — дьяки Алексей
Романчуков и Петр Самсонов, подьячий Михаил Злобин, справщики (редакторы)
Московского Печатного двора Савватий, Стефан Горчак, Михаил Рогов и
др. В большинстве своем — это приказные чиновники из неродовитых семей,
только недавно, в первом или втором поколениях, отвоевавшие себе ступеньку
на административной лестнице. Поэтому эта литературная группа и обозначается
как «приказная школа».
На Печатном дворе и в московских приказах, особенно в Посольском,
служили в ту пору самые образованные представители русской интеллигенции.
Для справщиков Печатного двора литературная работа была основной профессией.
Умение владеть пером было обязательным и для приказных дьяков и подьячих.
Им приходилось принимать иностранных послов, выполнять различные поручения
за границей, так что контакты с европейской культурой были для них привычным
делом. Одна из наиболее заметных и в то же время типичных фигур приказной
школы — дьяк Алексей Романчуков, возглавлявший в 1636-1638 гг. русское
посольство в Персию. Русские путешествовали вместе с голштинской миссией,
в составе которой были выдающиеся писатели, в том числе крупнейший поэт
немецкого барокко Пауль Флеминг. С ними постоянно общался Алексей Романчуков
(между прочим, за время путешествия он выучил латынь). Памятником этого
общения стала его собственноручная стихотворная запись в альбоме голштинского
врача Гартмана Граммана (потом этот врач перешел на русскую службу и
стал придворным медиком царя Михаила Федоровича):
Не дивно во благополучении возгоржение,
едина добродетель — всех благих совершение.
Дом благий пущает до себя всякаго человека
и исполняет благостыню до скончания века.
Вина всяким добродетелей — любовь,
не проливает бо ся от нея никогда кровь...
[14]
Эти альбомные стихи своего рода веха в истории русско-европейского
культурного общения: в 1638 г. вирши московского стихотворца впервые
оказываются в рукописи европейца.
Поэты «приказной школы» поддерживали интенсивные личные и творческие
контакты. Среди них было в ходу выражение «духовный союз» (вариант —
«любовный союз») — термин, который они прилагали к самим себе как к
корпорации. Какими профессиональными качествами должен обладать поэт,
причастный к «духовному союзу»? Прежде всего — это «остроумие»,«острый
разум»:
Токмо слышим о твоей остроумной разумности
яко навычен еси окружной премудрости (Савватий).
В языке того времени слово остроумие не имело отношения к способности
придумать меткое, острое словцо. «Остроумие» — это знания, смекалка.
Но приказные авторы вкладывают в этот термин специфическое значение.
С их точки зрения, «остроумие» заключается в умении пользоваться особым
«витийным» языком. Излюбленный прием «витийного» языка — уподобление.
В поисках материала для уподоблений поэты ориентируются в основном на
русскую традицию, на сборники «Физиолог» и «Азбуковник», откуда заимствуют
сведения о животных, травах, камнях и деревьях.
Есть бо нырь хитрый, далече ходит во глубину,
ритор же и философ разсуждает премудрую вину...
Желаем твоей любви, яко в жажду онагри...
Яко же магнит камык (камень) вся железа к себе привлачит,
тако и сребролюбивая юза всех содержит...
Хрусалиф камык яко злато есть видением,
сприличился же тому и ты своим разумением...
Анфракс камык зелен видением,
государьская твоя царская душа красна богу молением...
Поэт должен владеть ассоциативным мышлением. Умение находить новые
ассоциативные связи и есть «острый разум». Ассоциация — стержень поэтического
языка «приказной школы». Поиски новых ассоциаций роднят ее с тем художественным
стилем, который господствовал в Европе XVII в., — с барокко. Однако
московские стихотворцы избегают причудливых ассоциаций, довольствуясь
традиционными метафорами и символами. Сведения о магните, онагре (диком
осле), хрусалифе (хризолите) и анфраксе (карбункуле) они черпали из
книг, издавна распространенных на Руси.
В 20—40-х гг. книжное стихотворство было для русских писателей новым,
еще непривычным занятием. Оно воспринималось как своеобразная литературная
игра. Отнюдь не случайно среди жанров, которыми пользуются приказные
поэты, безраздельно преобладает стихотворное послание, эпистолия. Приказные
поэты писали эпистолии прежде всего друг другу, но также и царю Михаилу,
и людям, стоявшим на ступенях трона, — брату патриарха Филарета Ивану
Никитичу Романову, князю Д. М. Пожарскому и др. В этих посланиях, как
правило, очень мало информации (чаще всего содержательный момент сводится
к просьбе о покровительстве). Но по размеру послания бывают очень пространными
(сто строк и более). Ясно, что приказные стихотворцы не столько заботились
о содержании, сколько щеголяли самим умением писать «двоестрочными согласиями».
Они, как и всякие начинающие поэты, обращали преувеличенное внимание
на технику стихотворства, и прежде всего на акростих («краегранесие»,
«началестрочие»). Их эпистолии почти сплошь снабжены акростихом: из
первых букв каждой строки слагается прозаическая фраза, содержащая имя
адресата и имя автора. Составители эпистолии регулярно указывали в тексте,
что они пользуются «краегранесием», и отмечали его границы. Утаивать
имя автора и имя адресата не было никакой нужды, потому что послания
вручались реальным лицам.
Следовательно, акростихи в эпистолографии приказной школы также элемент
литературной игры, знак литературной «элегантности».
Но у акростиха была и другая функция. Акростих обособлял «двоестрочные
согласия» московских интеллигентов от «подлого» раёшника (отметим, что
приказные эпистолии и шуточные раёшные послания переписывались в одних
и тех же сборниках). Обособлению служило и различие в рифмовой технике.
В раёшных текстах находим звучные рифмы, в том числе корневые и составные.
В произведениях приказных авторов господствуют рифмы грамматические,
или суффиксально-флексивные, образованные созвучием суффиксов и флексий,
когда глагол рифмуется с глаголом, прилагательное с прилагательным,
существительное с существительным в одной грамматической форме. Это,
конечно, не говорит о техническом несовершенстве приказных стихотворцев.
Предпочитая грамматические рифмы и уклоняясь от рифм звучных, они
обособлялись от раёшника. Интересно, что пренебрежительное отношение
к звучным (особенно составным и каламбурным) рифмам сохранилось в «высоких»
жанрах русской поэзии вплоть до начала XX в.
Приказные стихотворцы очень скоро перешли от литературной игры к серьезным
занятиям поэзией. Савватий написал цикл нравоучительных стихотворений
— «О свете», «О плоти», «О утробе», в котором развивал традиционную
для христианской культуры тему суетности и бренности человеческой жизни,
тему, которая стала одной из центральных в европейском барокко. Этот
цикл Савватий пытался издать на Печатном дворе, единственной тогда русской
типографии. К печати были подготовлены и другие стихотворные тексты:
краткое переложение «Хроники» Амартола, предисловия к некоторым московским
изданиям. Однако все эти тексты так и не попали в печать и остались
в рукописях. По-видимому, у авторов «двоестрочных согласий» были не
только покровители, но и влиятельные противники.
Приказная школа прекратила свое существование в 50-х гг. Когда патриарх
Никон начал проводить церковную реформу, виднейшие стихотворцы приказной
школы, в том числе Савватий, стали в ряды приверженцев «древлего благочестия».
Это и был конец «приказной школы».
[1] О причинах этого см.: Лихачев Д. С. Система литературных жанров
Древней Руси. — В кн.: Славянские литературы. V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1962). М.,
1963, с. 65-68; Панченко А. М. Изучение поэзии Древней Руси. — В кн.: Пути
изучения древнерусской литературы и письменности. Л.. 1970, с. 126-129; Матхаузерова
Светла. Древнерусские теории искусства слова. Прага, 1979.
[2] См.: Соболевский А. И. Церковнославянские стихотворения конца
IX—начала X века. Спб., 1892; Лавров П. А. Материалы по истории возникновения
древнейшей славянской письменности. Л., 1930; Панченко А. М. Перспективы исследования
истории древнерусского стихотворства. — «ТОДРЛ». М.-Л., 1963, т. XX, с. 263-264.
[3] См.: Сазонова Л. И. Принцип ритмической организации в произведениях
торжественного красноречия старшей поры. — «ТОДРЛ». Л., 1973т. XXVIII,
с. 30-46.
[4] Матхаузерова С. «Слагати» или «ткати»? (Спор о поэзии в XVII
в.) — В кн.: Культурное наследие Древней Руси. М., 1976, с. 195-200.
[5] Тексты «стихов покаянных» Приведены в изд.: Бессонов П. Д.
Калики перехожие. М., 1861-1863. См. также: Перетц В. Н. К истории древнерусской
лирики (стихи «умиленные») — «Slavia», Roč XI, №°№ 3-4. Praha, 1932,
с. 474-479; Малышев В. И. «Стих покаянны» о «люте» времени и «поганых» нашествии.
— «ТОДРЛ». М.-Л., 1958, т. XV, с. 371-374; Позднеев А. В. Древнерусская поэма
— «Покаянны на осмь гласов». — Ceskoslovenská Rusistika, XV, № 5. Praha,
1970, с. 193-205.
[6] Текст цитируется но изд. в статье: Фролов С. В. Из истории
древнерусской музыки. (Ранний список стихов покаянных.) — В кн.: Культурное
наследие Древней Руси, с. 168.
[7] Текст цитируется по изданию в кн.: Малышев В. И. Древнерусские
рукописи Пушкинского Дома. Обзор фондов. М.-Л., 1965, с. 187.
[8] Общее представление о поэзии XVII в. дают две антологии: Демократическая поэзия XVII
века. Вступит, статья В. П. Адриановой-Перетц и Д. С. Лихачева: Подготовка
текста и примеч. В. П. Адриановой-Перетц. М.-Л., 1962; Русская силлабическая
поэзия XVII-XVIII
вв. Вступит, статья, подготовка текста и примеч. А. М. Панченко Л., 1970.
[9] Цитируется по изданию в кн.: Русская демократическая сатира
XVII
века. Подготовка текстов, статья и комментарии В. П. Адриановой-Перетц. Изд.
2-е, доп. М., 1977. с. 183.
[10] Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси.
Л., 1976. с. 27.
[11] Текст «Изложения» опубликован В. И. Саввой в кн.: Вновь открытые
полемические сочинения XVII в. против еретиков. Спб.. 1907, с. 7 и сл. См. также: Украïнська
поезiя. Кiнець XVI — початок XVII ст. Упорядники В. П. Колосова. В. 1. Крекотéнь. Киïв,
1978, с. 54-55.
[12] См.: Перетц В. Н. Историко-литературные исследования и материалы,
т. I. Из истории русской песни. Спб., 1900, с. 5 и сл.; Холшевников
В. Е. Русская и польская силлабика и силлаботоника. — В кн.: Теория стиха.
М.-Л., 1968, с. 27-31.
[13] См.: Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII
века Л., 1973, с. 34-102, 242-269; Шептаев Л. С. Стихи справщика Савватия.
— «ТОДРЛ», 1965, т. XXI, с. 5-28.
[14] Здесь и ниже стихотворения поэтов «приказной школы» цитируются
по кн.: Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века, с. 35, 51, 52-53.
|